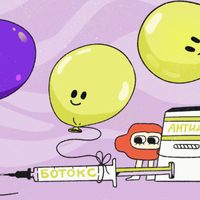Факел Средневековья
Художник Петр Павленский — об утверждении форм политического искусства в камере спецблока, о своих знакомцах в институте Сербского и о том, почему тюремные порядки — разумные


Акционист Петр Павленский вышел на свободу 8 июня. За поджог двери ФСБ на Лубянке Мещанский суд Москвы оштрафовал художника на миллион рублей, но отпустил из-под стражи. Павленский находился под арестом с ноября 2015 года. После освобождения художник дал интервью спецкору «Новой газеты» Елене Костюченко.
Он не выглядит худым или изможденным. Высокий, веселый, заваривает чай в стаканах. Мы встречаемся в квартире, «которой нет», описывать ее нельзя. Сейчас Павленский изучает новый район Москвы: «Я еще ничего не понял пока. Я осмотрюсь. Сегодня чуть не заблудился».
Заметно хромает — конвоиры Мосгорсуда, избивая, повредили ногу. «Она восстанавливается. Рентгена не делал, на днях схожу. Сначала не очень хорошо было, а потом я наблюдал — она выздоравливает, выздоравливает».
Возвращение
— Как будто вчера или позавчера со всеми расстался. Ну вроде как два дня прошло. И мы сидим, чай пьем. У меня даже нет ощущения, что я сидел, потом освобождался, серьезно. Наверное, через 10 лет было бы по-другому. А так вот полгода в тюрьме… похоже на школу, на детский сад. Почти одно и то же.
— Для тебя неожиданно, что ты так вышел?
— Да. Я, находясь внутри, общаясь много с людьми, в принципе видел, что эта система срыва не дает. Если ты в ней, ты в ней задержишься. Мне адвокат говорит: «Все, сейчас будет суд, и тебя, наверное, отпустят». Я говорю: «Че-то я удивлен. Ну давай поспорим». Проспорил. Неожиданно, да.
Ну перевести статью на терроризм… Если бы они пошли на это, система могла бы поперхнуться. Одно дело, когда они сами фабрикуют это. Готовятся, всем какие-то роли назначают. Можно какую-нибудь урну поджечь, стену, окно, подоконник, дверь, и за это реально уехать на 10–20 лет. Вот Иван Асташин, АБТО. Автономная боевая террористическая организация — фээсбэшники просто сами это название придумали. Там схема очень простая. Кто-то должен быть, кто пойдет на сделку со следствием. Они пытают, человеку очень многое чего приходится пережить. Я, допустим, с пытками ни разу не сталкивался. И говорить, что я так легко могу пережить пытки, не буду. А они ломают. И все — в этой группе появляется лидер, исполнители, появляются незначительные какие-то поджоги и что-то еще — и далеко идущие планы: взорвать какую-нибудь атомную электростанцию, еще что-то.
И вот ты изначально объявляешь все это условностью, ты говоришь — давай, фабрикуй, делай… Я просто хотел, чтобы судебно-правоохранительная система следовала своей логике.
— Сколько денег тебе присудили?
— Штраф 500 тысяч и иск гражданский еще 500. Миллион в общей сложности.
— И ты не собираешься платить?
— Нет, конечно. Получается, я как художник пошел и купил акцию у ФСБ за хорошую сумму? Очень прикольно.
Ритуал
— А перед всем этим стоит статистика. Тот мир — это царство бюрократии, целая религия бюрократии. Когда-то была придумана бумага, бюрократия, учет — для человека, теперь человек стал расходным материалом.
УК, законодательная система — это фантом, призрак. Его начинают материализовывать, чтоб он стал фактической реальностью. Для этого есть ритуалы, слуги многочисленные — судьи, прокуроры, полиция, инспектора надзора. И жертвы. Нужны реальные человеческие жертвы. Ведь единственный ресурс человека — это его время. Есть у кого-то 20 лет, 30 лет, у кого-то — 80 лет. Государству нужно забрать этот ресурс. Начинают забирать время. Это работа на материализацию идола.
Можно посмотреть на примитивные общества. Вот аборигены: у них идол, они совершают таинства вокруг этого идола. Ему потом приносят жертву. И в суде все так же. «Встань, сядь, скажи свои установочные данные». Когда ты начинаешь говорить свои установочные данные, когда ты даешь какую-то подпись — это тоже часть ритуала.
Вот почему я не разговариваю во время акции. Потому что как только появляется слуга-полицейский, он сразу хочет подчинить тебя своему ритуалу. Ты сказал: «Я такой-то, Василий Васильевич» — и все, начинаются уже его ритуальные действия. Наша тюрьма повседневности, так называемая воля — в ней же тоже это все есть. Но в той тюрьме это заострено. Ты выходишь каждое утро на проверку, и инспектора принципиально хотят, чтобы ты стоял, сложив руки за спиной, хотя у тебя руки и не в наручниках. Или где-то в судах — чтоб человек лицом в стену стоял. «Встань туда, встань сюда». Надзиратель обязательно приказывает — и ты ему должен подчиняться.

Конфликты все начинаются, когда ты говоришь: почему я руки должен держать за спиной? Ну понятно, если ты меня в наручники сковал, я просто не могу их вывести из-за спины. А если они у меня свободны? Но требуется это автоматическое ритуальное подчинение. Наверное, государство стремится к такому идеальному обществу. Будет такое общество — уже даже не нужны будут тюрьмы, можно будет просто объявлять: так, ты арестован, ты 10 лет сидишь. И воображаешь еще себя в кандалах, руки держишь за спиной.
Тюрьма
— В тюрьме очень много комфорта и безопасности. Я не вру. Там всегда есть еда. Хотя кому-то, может, характер не позволяет целые сутки лежать, отдыхать.
Сокамерники… Я думаю, мы дружили. Ну мы жили вместе, мы находимся вместе 24 часа в сутки, и неделю за неделей проводим в помещении 10 квадратных метров.
— А они понимали, почему ты там? Зачем это все?
— В принципе, да. Кто-то понимал с ходу и очень хорошо. Кто-то потом понимал. Кто-то, наверное, соглашался, но так, не вникая. Кто-то свои смыслы изобретал. Таких вот, чтобы вообще не поняли, недоумевающих я не встречал ни разу. В основном воспринимали это как такую форму жизни, которая находится в постоянном столкновении с властью. А это знакомая тюрьме тема.
Я сидел в спецблоках. В Бутырке это был «большой спец», в Медведкове — малый спец, это вообще изоляция полная. Раньше там сидели в основном воры и крупные коммерсанты, у которых собственность отжимают. Сейчас там еще политические, их стараются изолировать. Я в Медведкове какое-то время был в камере, где Дадин до этого сидел.
Огонь, иди за мной
— В СИЗО №5 сидели два таджика. У одного был срок 20 лет, другой освобождался. И один уехал на суд вместо другого и вместо него вышел из зала суда. Побег. После этого начались проверки по всем СИЗО.
И вот с утра я вышел на проверку, и начался конфликт с одним сотрудником. Он потребовал, чтоб я назвал ему свои все установочные данные. Ну сделал ему доклад, как меня зовут. А он знает меня очень хорошо, но хочет, чтобы я на камеру это сказал. Я ему говорю: «Слушай, мы с тобой только вчера виделись, чего повторять?» Тот сразу — ты че, давай руки за спину! Говорит: я тебя в стакан закрою. Ну хорошо, я уже в тюрьме. Не надо меня пугать.
Меня закрыли в стакане. Там интересно было. «Кормушку» ногой выбил, сумел открыть замок, только цепочка оставалась. Они заметили, обратно в камеру меня повели.
Они, опять же, хотят, чтоб у тебя настроение было плохое. Ты должен ходить такой грустный, с согнутой спиной, глаза куда-то в пол, в унынии. Ну а чего мне грустить, у меня нет повода грустить. Он говорит: «Сейчас соседей, с кем ты живешь, я в депрессию вгоню, и через это мы посмотрим, что с твоим настроением будет». Я говорю: ну интересно, как ты это сделаешь. Мы уже идем к камере, открывается дверь и он такой: «Давайте телевизор, я забираю».
Я его вообще не смотрел на воле, и там мне он не нужен был. Но я же не один живу, то есть надо понимать: приехали люди из областей, из городов других. Кто-то привык его смотреть, кому-то делать просто нечего, потому что он не привык читать, — я тоже должен о нем думать. Я конвойному говорю: «То, что у нас конфликт где-то там, в коридоре, это не касается тех, с кем я живу». А он просто меня толкает в камеру! Ну это уже называется рукоприкладство, он не может так делать. Я его бью. Он вылетает к себе на продол (коридор. — Е.К.) и начинает визжать. Когда их много, ввосьмером — они очень смелые. А тут у него шапка слетела, визжит: «Нападение, нападение!»
И на следующее утро — а эти утренние проверки у них святое — я просто остаюсь на кровати, под одеялом, демонстративно нога на ногу, с книгой. Выходят люди из камеры, тюремщики им говорят: «Ну что, давайте пресс-хату, давайте как-то этого человека выгоните из камеры, сломите его». Но все отказались.
— Сколько это длилось?
— Три месяца я не выходил на проверки. Потом я еще свет регулировал. На ночь остается тусклая лампочка, чтобы камеры ночью снимать могли. А тюрьма же ночью живет, днем же проверки. И ты не можешь ни письмо написать, не можешь книгу почитать. То есть тебе полиция указывает, когда тебе спать, когда бодрствовать. Что делать с этим?
Ну сначала выкрутили лампочку в ночнике. «Что случилось?» Да, сломалась, закоротило. Тогда они стали оставлять лампу дневного света. Все, лампа дневного света горит, вообще замечательно: есть свет, можно спокойно жить, можно читать. Потом они догадались, что ночная лампа выкручена. И приходят уже со своей обслугой, вкручивают.
Я начал эти лампы бить. Ну и раз, два, три, четыре — в какой-то момент уже просто открыто. Тогда они вообще выключили весь свет: ну посмотрим, что ты делать будешь. Я думаю: сейчас здесь будет естественный свет. Есть воздуховод, там решетка. Я просто повесил кусок простыни на нее и поджег спичками. Простынь хорошо горит. Получается, в камере светло, потому что она горит, как факел Средневековья… У нас свет, у них дым. У них истерика, они начинают бегать. Кричат: «Пожар, пожар! Павленский тюрьму поджигает!»
Потом они уже принесли антивандальный такой большой светильник, который на стройках висит. Прикрутили какими-то шурупами, укрепление сделали. И он уже работал как огромный прожектор. С таким светом уже даже спать тяжело, огромный луч тебе светит в глаза. Но все равно ночник считается. Я долго мучился, но в итоге мне удалось его разбить. Они очень сильно расстроились. Пришел даже хатный, который мне попробовал угрожать. И потом уже меня в карцер отправили.
Когда меня вернули в ту же камеру, я опять сразу уничтожил ночное освещение… После этого — все, они успокоились. Ночью было то освещение, которое нужно было нам.
А потом еще недели, наверное, через три принесли телевизор.
Психушка
— В Сербского, в изоляторе, где я был, — два смотровых окна. Напротив всегда должна находиться одна санитарка и надзиратель из ФСИН. Вдвоем, всегда. Они следят за тем, как ты что делаешь, они следят, с кем ты общаешься. Там нет никакого медикаментозного вмешательства. И все эти страхи, что в Сербского можно поехать на экспертизу и «заколют таблетками» — нет, неправда.
— У тебя в Сербском были опасения, что они попытаются тебя представить сумасшедшим?
— Да, были. Я им говорил открыто сразу об этом. Они тоже опасались: признать-то можно, но это же можно потом перепроверить. Поэтому они аккуратны были.
— Больных людей в Сербском не видел?
— Неадекватных? Может быть, нескольких. Там был один, его сломили, ну то есть его выгнали из палаты. Выяснилось, что в Бутырке он сотрудничал в администрации, очень подставил тех, с кем был в камере. И в Сербского оказался человек, который бывший его сосед. Он сказал об этом — ну и все, его начинают выгонять, отталкивать. Он не понимает сначала… А в палате для изоляции был такой Дима Милованов (месяц назад Милованова нашли мертвым в СИЗО «Матросская Тишина». — Е.К.). Он зарезал своих детей, хотел убить свою жену, жена там смогла как-то спастись. Он попал в тюрьму, у него стали интересоваться — зачем он это сделал. Он не захотел разговаривать и себе язык отрезал. Потом, видимо, он хотел вешаться, потому что у него там шрам через всю шею от веревки. Там я его видел, он такой уже был — худой, доходяга. Вот они оба сдружились так хорошо, жили изолированно… А потом этого Диму Милованова куда-то переводят: всё, он уезжает из Сербского, экспертиза закончилась. И тот его друг, который с администрацией сотрудничал, остается один, его закрывают в изолятор, и он начинает скрестись в дверь, орать, выть.
Это стражное отделение, это все арестованные из тюрем, в основном убийцы. В Сербского, я бы сказал, 80%, даже 90% — это 105-я статья. Убийцы, у которых очень разные истории. У кого-то за этим поступок стоит важный, большой. А кто-то детей зарезал, или бабушку свою зачем-то топором зарубил. Был там такой парень интересный, спокойный. Он милиционера забил кулаками, убил. Просто бил-бил — и забил. Сам из Дагестана. Ну я у него интересовался, почему он это сделал, а он говорит: «Он плохо разговаривал, неуважительно, а мне наплевать, я не боюсь».
— Убийцы отличаются чем-то?
— Ну вот ты знаешь, почему я мяса не ем? Я не веган. Я не ем мяса, потому что мне кажется, что вокруг этого большой культ лицемерия. В городах, в мегаполисах все с нимбами. Вот все святые. Такому дай нож — «нет, я не смогу, это же убийство». А потом идет в магазин, покупает колбасу, сосиску, окорочка — а это такое же убийство. Ты убийца на самом деле. Просто еще и трус при этом, еще ответственность на себя не может взять, делегировал кому-то. А руки так же в крови.
Суд
— Интересно было. Пришли Григорянц Сергей Иванович, Ковалев Сергей Адамович (советские диссиденты и политзаключенные. — Е.К.), это был важный момент. Это пришли люди, которые сказали, что вообще в этом здании (ФСБ РФ. — Е.К.) происходило.
Еще в суд проститутки приходили. Я давно хотел их позвать. Следователь еще в Питере хвастался: «Вот смотри, я тут вообще все слои общества опросил — вот учителя, чиновники, директор уборочной компании и уборщик, который улицы метет». Он прямо гордился: «Все против тебя». Так, думаю, ну подожди, давай я еще кем-нибудь дополню. Почему проституток не позвать, они что, вне общества, что ли? Нашли, договорились, им время по тарифу оплатили, естественно. Ведь остальные, кто там выступал, — они тоже получают деньги от государства. Проститутки приехали. Было мое условие: им должны были показать видео, и им нужно было сказать свое мнение. Вот и все. Как они думают, так и сказать. Они пришли и сказали. Сначала я, конечно, немного удивился. Я думал, они будут немного лояльнее ко мне. Но потом я понял, что как раз это и стало главным смыслом. Потому что они тем самым показали полную свою равнозначность остальным свидетелям. Судья, прокурор, директор уборочной компании, уборщик, школьный учитель, чиновник и проститутки — они абсолютно одинаково рассуждают. У них одинаковое суждение, у них одинаковые мировоззрения. Они равны, они не маргиналы, не отверженные. У них даже язык одинаковый. Даже школьный учитель разговаривает так же, как проститутки.
— Тебе сломали ребро в Мосгорсуде. Ногу тоже там повредили? Что случилось с тобой?
— Сидел в автозаке, был транзит через Мосгорсуд. В тюрьму едет только полностью заполненный автозак. Пока собирают — пересаживают из одного в другой. Меня пересаживают, там сидит «бээсник» — бывший сотрудник. Из внутренних войск — а они же на митингах в оцеплениях стоят. Все бывшие сотрудники обычно сидят в отдельных камерах. И менты, и следователи, и прокуроры, и гаишники. Я ему говорю: слушай, давай-ка уйди с этой сборки, пересядь куда-нибудь в другую, не хочу я сидеть с тобой. Он оглянулся на конвой, а конвойный провоцирует: «Мол, сидите, сидите». И вэвэшник то ли поддержку увидел со стороны конвоя, то ли понимает, что смешно будет, если он начнет теперь стучаться на выход. И он говорит мне: давай иди, сам пересаживайся. А это же бывший сотрудник, мент, его никто не будет бить, но он должен знать место свое. Ну и я зацепился с ним. Я бить его начал, драться, потому что он границу перешел. Начинается драка. Этот конвоир рад, конечно, он кричать начинает: «Драка! Драка!» Они забегают, вытаскивают, начинают бить — ну конечно, не его, а меня. Нас рассадили. Во втором автозаке уже сидело много арестантов, и я стал интересоваться, что он тут делает вообще. Мне говорят: а мы вообще на Медведково ездим в автозаках вместе. Тогда, в общем, менты победили. Арестанты потом мне говорили, что так бить, конечно, не надо, вообще не принято рукоприкладство, только если немного, бывшего мента и для профилактики.

— Ты борешься против законов государства, а законы тюрьмы принимаешь. «Он должен был знать свое место». Ничего себе!
— Так он же вэвэшник!
— Избирательно как-то получается
— Конечно, я выбираю, почему нет-то? Он не ушел дезертиром из этой армии, хотя мог. Все в его руках было. И он мне просто говорит: давай уйди. Там же все строится на таких мелочах. Ты можешь их не соблюдать, но тогда нужно сразу уйти в изоляцию. А если входишь в общество и не хочешь соблюдать, то ты будешь конфликт за конфликтом создавать. Если тебе это нужно, если цель такая есть, это можно делать. У меня не было такой цели.
Свобода. Искусство
— А не обидно, что ты такой свободный, а твоим телом государство распоряжается? Куда везти, на сколько, где содержать?
— Да, понимаю, конечно. Ну а здесь, в тюрьме повседневности, что управляет твоей жизнью? Удерживать и работа может, и друзья могут удерживать, папа-мама, семья и дети, любимый человек, друг-подруга — кто угодно. Вот если так близко посмотреть — много ли людей готовы пользоваться свободой? «Сейчас вот с утра встану, возьму с собой баул и все, и поеду, теперь буду в горах жить на Кавказе или в Индии». Ну иногда кто-то едет.
— Да, перед этим сдает московскую квартиру.
— Потом возвращается через год.
— Ну я не могу тебя не спросить. Как вообще приходит в голову мысль поджечь дверь ФСБ? С утра просыпаешься и думаешь: почему бы нет?
— Нет, конечно, это постепенно в голове собирается. Я читаю новости, смотрю, что происходит. Общаюсь много, разговариваю с людьми. Начинаю дальше смотреть: хорошо, а что можно еще сделать? Собираются фрагменты. В какой-то момент становится понятно, что адекватным высказыванием сейчас будет именно вот это действие.
— Сейчас уже можно сказать, что эта акция закончилась?
— Подожди, вот это важно. Акция заканчивается в тот момент, когда меня принимают. Но никогда не прекращается процесс утверждения форм политического искусства. Чтобы быть художником, заниматься политическим искусством, нужно постоянно объяснять. Огромный ресурс работает на то, чтобы я был преступником, сумасшедшим или дураком — кем угодно, неважно, но только не художником. Чтобы мое действие не было названо искусством. Если замолчать, то будет продолжать говорить другая сторона. Поэтому процесс не прекращается. Еще есть внутри этого процесса — прецеденты политического искусства. Когда проститутки приходят в суд, или когда допрос меня следователем Павлом Ясманом печатается в журнале «Сноб». Или когда этот следователь Павел Ясман уволился и смог прийти на первое заседание уже в качестве адвоката. Очень многое власть сама делает.
— Власть — это объект твоего искусства? Или это среда вокруг тебя, которая сопротивляется? Или это молот, который над тобой висит?
— Это вообще часть человеческой сущности. Власть ведь всегда от двоих зависит. Должно быть подчинение со второй стороны. Нет подчинения — не будет и власти, будет конфликт.
Я говорю всегда прежде всего об ответственности. Что ты, в принципе, в любой ситуации в любой момент несешь ответственность за все. Ты всегда должен на что-то влиять. Апатия, индифферентность — это очень страшные вещи. Очень много зла именно из-за них происходит. Я исхожу из ответственности. А дальше думаю: я могу вот с этой реальностью работать? Я художник, меня интересует действительность, которую постоянно скрывают за какими-то декорациями, декорациями, декорациями. И говорят: «Нет, это не декорации, это вот так и есть». А это на самом деле мишура. Моя задача ее разрушать. Я показываю. Я художник. И это довольно четкая идентичность. Я не политик, не революционер. Я художник — и все.


Акционист Петр Павленский вышел на свободу 8 июня. За поджог двери ФСБ на Лубянке Мещанский суд Москвы оштрафовал художника на миллион рублей, но отпустил из-под стражи. Павленский находился под арестом с ноября 2015 года. После освобождения художник дал интервью спецкору «Новой газеты» Елене Костюченко.
Он не выглядит худым или изможденным. Высокий, веселый, заваривает чай в стаканах. Мы встречаемся в квартире, «которой нет», описывать ее нельзя. Сейчас Павленский изучает новый район Москвы: «Я еще ничего не понял пока. Я осмотрюсь. Сегодня чуть не заблудился».
Заметно хромает — конвоиры Мосгорсуда, избивая, повредили ногу. «Она восстанавливается. Рентгена не делал, на днях схожу. Сначала не очень хорошо было, а потом я наблюдал — она выздоравливает, выздоравливает».
Возвращение
— Как будто вчера или позавчера со всеми расстался. Ну вроде как два дня прошло. И мы сидим, чай пьем. У меня даже нет ощущения, что я сидел, потом освобождался, серьезно. Наверное, через 10 лет было бы по-другому. А так вот полгода в тюрьме… похоже на школу, на детский сад. Почти одно и то же.
— Для тебя неожиданно, что ты так вышел?
— Да. Я, находясь внутри, общаясь много с людьми, в принципе видел, что эта система срыва не дает. Если ты в ней, ты в ней задержишься. Мне адвокат говорит: «Все, сейчас будет суд, и тебя, наверное, отпустят». Я говорю: «Че-то я удивлен. Ну давай поспорим». Проспорил. Неожиданно, да.
Ну перевести статью на терроризм… Если бы они пошли на это, система могла бы поперхнуться. Одно дело, когда они сами фабрикуют это. Готовятся, всем какие-то роли назначают. Можно какую-нибудь урну поджечь, стену, окно, подоконник, дверь, и за это реально уехать на 10–20 лет. Вот Иван Асташин, АБТО. Автономная боевая террористическая организация — фээсбэшники просто сами это название придумали. Там схема очень простая. Кто-то должен быть, кто пойдет на сделку со следствием. Они пытают, человеку очень многое чего приходится пережить. Я, допустим, с пытками ни разу не сталкивался. И говорить, что я так легко могу пережить пытки, не буду. А они ломают. И все — в этой группе появляется лидер, исполнители, появляются незначительные какие-то поджоги и что-то еще — и далеко идущие планы: взорвать какую-нибудь атомную электростанцию, еще что-то.
И вот ты изначально объявляешь все это условностью, ты говоришь — давай, фабрикуй, делай… Я просто хотел, чтобы судебно-правоохранительная система следовала своей логике.
— Сколько денег тебе присудили?
— Штраф 500 тысяч и иск гражданский еще 500. Миллион в общей сложности.
— И ты не собираешься платить?
— Нет, конечно. Получается, я как художник пошел и купил акцию у ФСБ за хорошую сумму? Очень прикольно.
Ритуал
— А перед всем этим стоит статистика. Тот мир — это царство бюрократии, целая религия бюрократии. Когда-то была придумана бумага, бюрократия, учет — для человека, теперь человек стал расходным материалом.
УК, законодательная система — это фантом, призрак. Его начинают материализовывать, чтоб он стал фактической реальностью. Для этого есть ритуалы, слуги многочисленные — судьи, прокуроры, полиция, инспектора надзора. И жертвы. Нужны реальные человеческие жертвы. Ведь единственный ресурс человека — это его время. Есть у кого-то 20 лет, 30 лет, у кого-то — 80 лет. Государству нужно забрать этот ресурс. Начинают забирать время. Это работа на материализацию идола.
Можно посмотреть на примитивные общества. Вот аборигены: у них идол, они совершают таинства вокруг этого идола. Ему потом приносят жертву. И в суде все так же. «Встань, сядь, скажи свои установочные данные». Когда ты начинаешь говорить свои установочные данные, когда ты даешь какую-то подпись — это тоже часть ритуала.
Вот почему я не разговариваю во время акции. Потому что как только появляется слуга-полицейский, он сразу хочет подчинить тебя своему ритуалу. Ты сказал: «Я такой-то, Василий Васильевич» — и все, начинаются уже его ритуальные действия. Наша тюрьма повседневности, так называемая воля — в ней же тоже это все есть. Но в той тюрьме это заострено. Ты выходишь каждое утро на проверку, и инспектора принципиально хотят, чтобы ты стоял, сложив руки за спиной, хотя у тебя руки и не в наручниках. Или где-то в судах — чтоб человек лицом в стену стоял. «Встань туда, встань сюда». Надзиратель обязательно приказывает — и ты ему должен подчиняться.

Конфликты все начинаются, когда ты говоришь: почему я руки должен держать за спиной? Ну понятно, если ты меня в наручники сковал, я просто не могу их вывести из-за спины. А если они у меня свободны? Но требуется это автоматическое ритуальное подчинение. Наверное, государство стремится к такому идеальному обществу. Будет такое общество — уже даже не нужны будут тюрьмы, можно будет просто объявлять: так, ты арестован, ты 10 лет сидишь. И воображаешь еще себя в кандалах, руки держишь за спиной.
Тюрьма
— В тюрьме очень много комфорта и безопасности. Я не вру. Там всегда есть еда. Хотя кому-то, может, характер не позволяет целые сутки лежать, отдыхать.
Сокамерники… Я думаю, мы дружили. Ну мы жили вместе, мы находимся вместе 24 часа в сутки, и неделю за неделей проводим в помещении 10 квадратных метров.
— А они понимали, почему ты там? Зачем это все?
— В принципе, да. Кто-то понимал с ходу и очень хорошо. Кто-то потом понимал. Кто-то, наверное, соглашался, но так, не вникая. Кто-то свои смыслы изобретал. Таких вот, чтобы вообще не поняли, недоумевающих я не встречал ни разу. В основном воспринимали это как такую форму жизни, которая находится в постоянном столкновении с властью. А это знакомая тюрьме тема.
Я сидел в спецблоках. В Бутырке это был «большой спец», в Медведкове — малый спец, это вообще изоляция полная. Раньше там сидели в основном воры и крупные коммерсанты, у которых собственность отжимают. Сейчас там еще политические, их стараются изолировать. Я в Медведкове какое-то время был в камере, где Дадин до этого сидел.
Огонь, иди за мной
— В СИЗО №5 сидели два таджика. У одного был срок 20 лет, другой освобождался. И один уехал на суд вместо другого и вместо него вышел из зала суда. Побег. После этого начались проверки по всем СИЗО.
И вот с утра я вышел на проверку, и начался конфликт с одним сотрудником. Он потребовал, чтоб я назвал ему свои все установочные данные. Ну сделал ему доклад, как меня зовут. А он знает меня очень хорошо, но хочет, чтобы я на камеру это сказал. Я ему говорю: «Слушай, мы с тобой только вчера виделись, чего повторять?» Тот сразу — ты че, давай руки за спину! Говорит: я тебя в стакан закрою. Ну хорошо, я уже в тюрьме. Не надо меня пугать.
Меня закрыли в стакане. Там интересно было. «Кормушку» ногой выбил, сумел открыть замок, только цепочка оставалась. Они заметили, обратно в камеру меня повели.
Они, опять же, хотят, чтоб у тебя настроение было плохое. Ты должен ходить такой грустный, с согнутой спиной, глаза куда-то в пол, в унынии. Ну а чего мне грустить, у меня нет повода грустить. Он говорит: «Сейчас соседей, с кем ты живешь, я в депрессию вгоню, и через это мы посмотрим, что с твоим настроением будет». Я говорю: ну интересно, как ты это сделаешь. Мы уже идем к камере, открывается дверь и он такой: «Давайте телевизор, я забираю».
Я его вообще не смотрел на воле, и там мне он не нужен был. Но я же не один живу, то есть надо понимать: приехали люди из областей, из городов других. Кто-то привык его смотреть, кому-то делать просто нечего, потому что он не привык читать, — я тоже должен о нем думать. Я конвойному говорю: «То, что у нас конфликт где-то там, в коридоре, это не касается тех, с кем я живу». А он просто меня толкает в камеру! Ну это уже называется рукоприкладство, он не может так делать. Я его бью. Он вылетает к себе на продол (коридор. — Е.К.) и начинает визжать. Когда их много, ввосьмером — они очень смелые. А тут у него шапка слетела, визжит: «Нападение, нападение!»
И на следующее утро — а эти утренние проверки у них святое — я просто остаюсь на кровати, под одеялом, демонстративно нога на ногу, с книгой. Выходят люди из камеры, тюремщики им говорят: «Ну что, давайте пресс-хату, давайте как-то этого человека выгоните из камеры, сломите его». Но все отказались.
— Сколько это длилось?
— Три месяца я не выходил на проверки. Потом я еще свет регулировал. На ночь остается тусклая лампочка, чтобы камеры ночью снимать могли. А тюрьма же ночью живет, днем же проверки. И ты не можешь ни письмо написать, не можешь книгу почитать. То есть тебе полиция указывает, когда тебе спать, когда бодрствовать. Что делать с этим?
Ну сначала выкрутили лампочку в ночнике. «Что случилось?» Да, сломалась, закоротило. Тогда они стали оставлять лампу дневного света. Все, лампа дневного света горит, вообще замечательно: есть свет, можно спокойно жить, можно читать. Потом они догадались, что ночная лампа выкручена. И приходят уже со своей обслугой, вкручивают.
Я начал эти лампы бить. Ну и раз, два, три, четыре — в какой-то момент уже просто открыто. Тогда они вообще выключили весь свет: ну посмотрим, что ты делать будешь. Я думаю: сейчас здесь будет естественный свет. Есть воздуховод, там решетка. Я просто повесил кусок простыни на нее и поджег спичками. Простынь хорошо горит. Получается, в камере светло, потому что она горит, как факел Средневековья… У нас свет, у них дым. У них истерика, они начинают бегать. Кричат: «Пожар, пожар! Павленский тюрьму поджигает!»
Потом они уже принесли антивандальный такой большой светильник, который на стройках висит. Прикрутили какими-то шурупами, укрепление сделали. И он уже работал как огромный прожектор. С таким светом уже даже спать тяжело, огромный луч тебе светит в глаза. Но все равно ночник считается. Я долго мучился, но в итоге мне удалось его разбить. Они очень сильно расстроились. Пришел даже хатный, который мне попробовал угрожать. И потом уже меня в карцер отправили.
Когда меня вернули в ту же камеру, я опять сразу уничтожил ночное освещение… После этого — все, они успокоились. Ночью было то освещение, которое нужно было нам.
А потом еще недели, наверное, через три принесли телевизор.
Психушка
— В Сербского, в изоляторе, где я был, — два смотровых окна. Напротив всегда должна находиться одна санитарка и надзиратель из ФСИН. Вдвоем, всегда. Они следят за тем, как ты что делаешь, они следят, с кем ты общаешься. Там нет никакого медикаментозного вмешательства. И все эти страхи, что в Сербского можно поехать на экспертизу и «заколют таблетками» — нет, неправда.
— У тебя в Сербском были опасения, что они попытаются тебя представить сумасшедшим?
— Да, были. Я им говорил открыто сразу об этом. Они тоже опасались: признать-то можно, но это же можно потом перепроверить. Поэтому они аккуратны были.
— Больных людей в Сербском не видел?
— Неадекватных? Может быть, нескольких. Там был один, его сломили, ну то есть его выгнали из палаты. Выяснилось, что в Бутырке он сотрудничал в администрации, очень подставил тех, с кем был в камере. И в Сербского оказался человек, который бывший его сосед. Он сказал об этом — ну и все, его начинают выгонять, отталкивать. Он не понимает сначала… А в палате для изоляции был такой Дима Милованов (месяц назад Милованова нашли мертвым в СИЗО «Матросская Тишина». — Е.К.). Он зарезал своих детей, хотел убить свою жену, жена там смогла как-то спастись. Он попал в тюрьму, у него стали интересоваться — зачем он это сделал. Он не захотел разговаривать и себе язык отрезал. Потом, видимо, он хотел вешаться, потому что у него там шрам через всю шею от веревки. Там я его видел, он такой уже был — худой, доходяга. Вот они оба сдружились так хорошо, жили изолированно… А потом этого Диму Милованова куда-то переводят: всё, он уезжает из Сербского, экспертиза закончилась. И тот его друг, который с администрацией сотрудничал, остается один, его закрывают в изолятор, и он начинает скрестись в дверь, орать, выть.
Это стражное отделение, это все арестованные из тюрем, в основном убийцы. В Сербского, я бы сказал, 80%, даже 90% — это 105-я статья. Убийцы, у которых очень разные истории. У кого-то за этим поступок стоит важный, большой. А кто-то детей зарезал, или бабушку свою зачем-то топором зарубил. Был там такой парень интересный, спокойный. Он милиционера забил кулаками, убил. Просто бил-бил — и забил. Сам из Дагестана. Ну я у него интересовался, почему он это сделал, а он говорит: «Он плохо разговаривал, неуважительно, а мне наплевать, я не боюсь».
— Убийцы отличаются чем-то?
— Ну вот ты знаешь, почему я мяса не ем? Я не веган. Я не ем мяса, потому что мне кажется, что вокруг этого большой культ лицемерия. В городах, в мегаполисах все с нимбами. Вот все святые. Такому дай нож — «нет, я не смогу, это же убийство». А потом идет в магазин, покупает колбасу, сосиску, окорочка — а это такое же убийство. Ты убийца на самом деле. Просто еще и трус при этом, еще ответственность на себя не может взять, делегировал кому-то. А руки так же в крови.
Суд
— Интересно было. Пришли Григорянц Сергей Иванович, Ковалев Сергей Адамович (советские диссиденты и политзаключенные. — Е.К.), это был важный момент. Это пришли люди, которые сказали, что вообще в этом здании (ФСБ РФ. — Е.К.) происходило.
Еще в суд проститутки приходили. Я давно хотел их позвать. Следователь еще в Питере хвастался: «Вот смотри, я тут вообще все слои общества опросил — вот учителя, чиновники, директор уборочной компании и уборщик, который улицы метет». Он прямо гордился: «Все против тебя». Так, думаю, ну подожди, давай я еще кем-нибудь дополню. Почему проституток не позвать, они что, вне общества, что ли? Нашли, договорились, им время по тарифу оплатили, естественно. Ведь остальные, кто там выступал, — они тоже получают деньги от государства. Проститутки приехали. Было мое условие: им должны были показать видео, и им нужно было сказать свое мнение. Вот и все. Как они думают, так и сказать. Они пришли и сказали. Сначала я, конечно, немного удивился. Я думал, они будут немного лояльнее ко мне. Но потом я понял, что как раз это и стало главным смыслом. Потому что они тем самым показали полную свою равнозначность остальным свидетелям. Судья, прокурор, директор уборочной компании, уборщик, школьный учитель, чиновник и проститутки — они абсолютно одинаково рассуждают. У них одинаковое суждение, у них одинаковые мировоззрения. Они равны, они не маргиналы, не отверженные. У них даже язык одинаковый. Даже школьный учитель разговаривает так же, как проститутки.
— Тебе сломали ребро в Мосгорсуде. Ногу тоже там повредили? Что случилось с тобой?
— Сидел в автозаке, был транзит через Мосгорсуд. В тюрьму едет только полностью заполненный автозак. Пока собирают — пересаживают из одного в другой. Меня пересаживают, там сидит «бээсник» — бывший сотрудник. Из внутренних войск — а они же на митингах в оцеплениях стоят. Все бывшие сотрудники обычно сидят в отдельных камерах. И менты, и следователи, и прокуроры, и гаишники. Я ему говорю: слушай, давай-ка уйди с этой сборки, пересядь куда-нибудь в другую, не хочу я сидеть с тобой. Он оглянулся на конвой, а конвойный провоцирует: «Мол, сидите, сидите». И вэвэшник то ли поддержку увидел со стороны конвоя, то ли понимает, что смешно будет, если он начнет теперь стучаться на выход. И он говорит мне: давай иди, сам пересаживайся. А это же бывший сотрудник, мент, его никто не будет бить, но он должен знать место свое. Ну и я зацепился с ним. Я бить его начал, драться, потому что он границу перешел. Начинается драка. Этот конвоир рад, конечно, он кричать начинает: «Драка! Драка!» Они забегают, вытаскивают, начинают бить — ну конечно, не его, а меня. Нас рассадили. Во втором автозаке уже сидело много арестантов, и я стал интересоваться, что он тут делает вообще. Мне говорят: а мы вообще на Медведково ездим в автозаках вместе. Тогда, в общем, менты победили. Арестанты потом мне говорили, что так бить, конечно, не надо, вообще не принято рукоприкладство, только если немного, бывшего мента и для профилактики.

— Ты борешься против законов государства, а законы тюрьмы принимаешь. «Он должен был знать свое место». Ничего себе!
— Так он же вэвэшник!
— Избирательно как-то получается
— Конечно, я выбираю, почему нет-то? Он не ушел дезертиром из этой армии, хотя мог. Все в его руках было. И он мне просто говорит: давай уйди. Там же все строится на таких мелочах. Ты можешь их не соблюдать, но тогда нужно сразу уйти в изоляцию. А если входишь в общество и не хочешь соблюдать, то ты будешь конфликт за конфликтом создавать. Если тебе это нужно, если цель такая есть, это можно делать. У меня не было такой цели.
Свобода. Искусство
— А не обидно, что ты такой свободный, а твоим телом государство распоряжается? Куда везти, на сколько, где содержать?
— Да, понимаю, конечно. Ну а здесь, в тюрьме повседневности, что управляет твоей жизнью? Удерживать и работа может, и друзья могут удерживать, папа-мама, семья и дети, любимый человек, друг-подруга — кто угодно. Вот если так близко посмотреть — много ли людей готовы пользоваться свободой? «Сейчас вот с утра встану, возьму с собой баул и все, и поеду, теперь буду в горах жить на Кавказе или в Индии». Ну иногда кто-то едет.
— Да, перед этим сдает московскую квартиру.
— Потом возвращается через год.
— Ну я не могу тебя не спросить. Как вообще приходит в голову мысль поджечь дверь ФСБ? С утра просыпаешься и думаешь: почему бы нет?
— Нет, конечно, это постепенно в голове собирается. Я читаю новости, смотрю, что происходит. Общаюсь много, разговариваю с людьми. Начинаю дальше смотреть: хорошо, а что можно еще сделать? Собираются фрагменты. В какой-то момент становится понятно, что адекватным высказыванием сейчас будет именно вот это действие.
— Сейчас уже можно сказать, что эта акция закончилась?
— Подожди, вот это важно. Акция заканчивается в тот момент, когда меня принимают. Но никогда не прекращается процесс утверждения форм политического искусства. Чтобы быть художником, заниматься политическим искусством, нужно постоянно объяснять. Огромный ресурс работает на то, чтобы я был преступником, сумасшедшим или дураком — кем угодно, неважно, но только не художником. Чтобы мое действие не было названо искусством. Если замолчать, то будет продолжать говорить другая сторона. Поэтому процесс не прекращается. Еще есть внутри этого процесса — прецеденты политического искусства. Когда проститутки приходят в суд, или когда допрос меня следователем Павлом Ясманом печатается в журнале «Сноб». Или когда этот следователь Павел Ясман уволился и смог прийти на первое заседание уже в качестве адвоката. Очень многое власть сама делает.
— Власть — это объект твоего искусства? Или это среда вокруг тебя, которая сопротивляется? Или это молот, который над тобой висит?
— Это вообще часть человеческой сущности. Власть ведь всегда от двоих зависит. Должно быть подчинение со второй стороны. Нет подчинения — не будет и власти, будет конфликт.
Я говорю всегда прежде всего об ответственности. Что ты, в принципе, в любой ситуации в любой момент несешь ответственность за все. Ты всегда должен на что-то влиять. Апатия, индифферентность — это очень страшные вещи. Очень много зла именно из-за них происходит. Я исхожу из ответственности. А дальше думаю: я могу вот с этой реальностью работать? Я художник, меня интересует действительность, которую постоянно скрывают за какими-то декорациями, декорациями, декорациями. И говорят: «Нет, это не декорации, это вот так и есть». А это на самом деле мишура. Моя задача ее разрушать. Я показываю. Я художник. И это довольно четкая идентичность. Я не политик, не революционер. Я художник — и все.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
+1
Пётр Павленский и Надежда Савченко встретились в Киеве
www.svoboda.org/content/article/27806715.html
… с таким людьми — не страшно ничего и верится в будущее.
- ↓
0
А ведь Павленский о другой тюрьме — говорил… она есть в каждом из нас.
- ↓
0
Павленский не художник..., как мы думаем.
Он — есть искусство.
- ↑
- ↓
+2
Красивый, умный, одаренный, мужественный художник Павленский. Не случайный человек на этой планете… Единицы таких укрепляют волю тех, кто идет вперед не по инерции, а по собственной воле, дышит полной грудью, любит жизнь за свободу выбора, говорит то, что думает, не молчит, видя подлость. И никогда не согласится с вертухаями любого уровня, для которых, как выражается художник «Ты должен ходить такой грустный, с согнутой спиной, глаза куда-то в пол, в унынии...»...«Ну хорошо, я уже в тюрьме. Не надо меня пугать»… Это же вот точно про то, что есть в РФ сейчас… Нечто мистическое в том, что Павленского выпустили на свободу, ограничившись штрафом, заранее зная, что у него нет 1 миллиона на уплату… Крючочек, на который его поддели с дальним прицелом… Спасибо kv127 за светлую тему — сияет...)))
- ↓